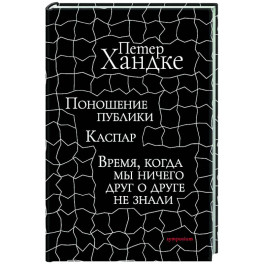В сборник выдающегося австрийского романиста и драматурга, лауреата Нобелевской премии (2019) Петера Хандке включены три пьесы, представляющие собой различные сценические эксперименты: «Каспар» (1967), история подростка, к шестнадцати годам научившегося говорить одну фразу, «Поношение публики» (1966) — монологи актеров, которые играют самих себя, и философская драма-пантомима «Время, когда мы ничего друг о друге не знали» (1989).
Фрагмент из Предисловия Александра Белобратова:
Театр разрушен — да здравствует театр! По словам молодого драматурга: «Метод моей первой пьесы [Поношение публики] состоял в отрицании всех прошлых методов. Метод следующей пьесы будет состоять в том, чтобы просеять рефлексией все прошлые методы и отобрать из них то, что еще может пригодиться для театра». И зрителю не пришлось долго ждать: 11 мая 1968 года сразу в двух немецких театрах прошла премьера огромной по объему пьесы Хандке «Каспар». Макс Фриш, выдающийся швейцарский прозаик и драматург, откликнулся на эту постановку, назвав ее «самым значительным театральным событием десятилетия».
Казалось бы, Хандке словно сделал шаг назад: в пьесе обозначен некий сюжет, есть некоторое сценическое оформление, есть персонаж (и даже несколько персонажей), который совершает определенные действия и движения, а сценическая речь (монологи и диалоги) замкнута пространством театральных подмостков. Однако драматург именно отбирает некоторые элементы театрального действа, существенно их преображая и максимально редуцируя, при этом он наполняет пьесу до краев и даже сверх края безудержным «говорением» во всех его мыслимых регистрах. Он отказывается «рассказывать истории» в духе «тривиального реализма», отказывается от «изношенного приема» в литературе, приводящего к «автоматизму восприятия» (Хандке в своих суждениях о творчестве прибегает к формулировкам русских формалистов). Он вновь обращается к миру слов, к миру языка (Sprache), к его границам (в духе «Логико-философского трактата» Витгенштейна: «Границы моего языка есть границы моего мира»).
Сюжет пьесы в самом деле лишь обозначен: имя центрального персонажа (Каспар) отсылает читателя/зрителя к известной сенсационной истории, разыгравшейся в Германии в XIX столетии. 26 мая 1828 года на одной из улиц в Нюрнберге объявился юноша лет семнадцати, плохо одетый, с трудом передвигавшийся, почти не способный что-либо говорить и назвавшийся Каспаром Хаузером. Его физическое и умственное состояние подтверждало предположение о том, что он с младенческого возраста содержался кем-то неизвестным в закрытом подвальном помещении. Городские власти приняли в нем участие, и по истечении нескольких лет социализация юноши принесла свои плоды — он обрел дар слова, научился писать, быстро шло его психологическое развитие, способствовавшее скорой интеграции в общество. В 1831 году он перебрался в город Ансбах и служил там переписчиком в апелляционном суде. 14 декабря 1833 года Каспар проходил через местный городской сад, где на него напал неизвестный и нанес ему несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными. И появление Каспара Хаузера словно ниоткуда, и его облик и состояние, и его неожиданная смерть вызвали небывалое внимание к его истории не только в Германии, но и во всей Европе. Тайну его происхождения и причину длительной неволи разгадать так и не удалось.
У Хандке история Каспара не «рассказывается». Его персонаж предстает как «голый человек на голой земле». Он лишен слова, лишен языка — способен лишь повторять бесчисленное количество раз одну и ту же фразу: «Я хочу стать таким, каким когда-то был другой». (Эту механически повторяемую фразу, слегка изменив ее, Хандке берет из истории реального Каспара Хаузера.) Слово дано другим: голоса Суфлеров (Einsager) из трех репродукторов на сцене, безжизненно-механические, комментируют движения Каспара, вбивают в его сознание короткие фразы, побуждая его к говорению. Из хаоса языкового небытия Каспара принуждают переместиться в организованный «порядок слов». Его помещают в рамки клишированной речи, обрабатывают «напильником языка», словно грубую заготовку, которая должна стать нормированной деталью, такой же, как «другие». Голоса Суфлеров осуществляют языковое производство Каспара, и Каспар, обретя слова, перестает быть один. Его «разбивают» на нескольких Каспаров, безмолвно участвующих в передвижении по просцениуму. Кто он теперь — этот Каспар? Что он теперь такое? Пьесу первоначально завершала реплика героя: «Я: лишь: случайно: я», передававшая якобы сформировавшееся самосознание Каспара, его способность оценить последствия «пытки речью». В 1969 году Хандке снял эту реплику, заставив героя в конце пьесы многократно повторять словно бы бессмысленное словосочетание: «козлы и обезьяны», «козлы и обезьяны», «козлы и обезьяны»… На самом деле автор прибегает к цитации из «Отелло» Шекспира. Это слова обманутого мавра, выражающие его ярость, отчаяние и безумие и вбитые в его сознание Яго, своеобразным Суфлером, манипулирующим индивидуальностью Отелло.
В «Каспаре» Хандке поражает и привлекает неимоверное владение словом, восхитительная языковая игра, широчайший стилевой регистр речи, втягивающий зрителя в эту незамысловатую и драматическую историю — историю сотворения и уничтожения человека словом.